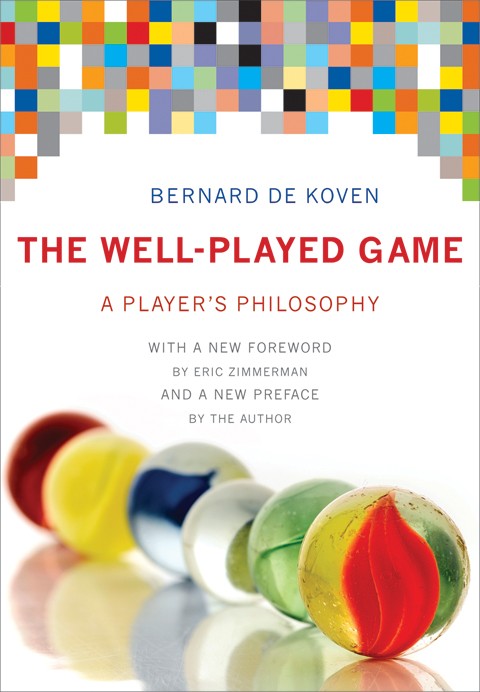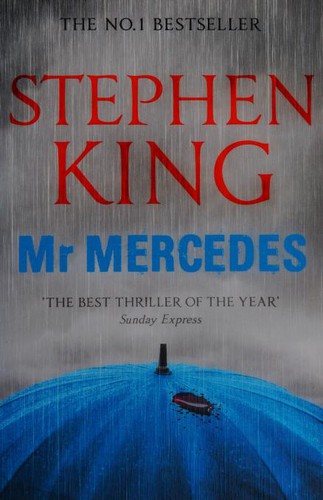Ни одно современное издание не сообщает, о чём на самом деле книга, — издатели ссут в уши набором клише, порождённых обскурантизмом, который непосредственно под обложкой клеймит автор! Положительные (насколько это возможно в истории) персонажи тут: чернцы-нестяжатели, старообрядцы-бегуны, автономные казаки, масоны, русские социалисты! Ни одного егора!
User Profile
I study authoritarians and enjoy poetry. Reading all those books in Cyrillic. he/him
This link opens in a pop-up window
User Activity
RSS feed Back
Osmanthus Cordial started reading Русская идея by Николай Александрович Бердяев
Osmanthus Cordial quoted Личность и священное by Simone Weil
Преступникам — подлинное наказание; несчастным, которых несчастье поразило до глубины души, — помощь, способную утолить их жажду [блага] из сверхъестественных источников; всем остальным — немного благополучия, много красоты и защиту от тех, кто мог бы причинить им зло; повсюду — строгое ограничение сумятицы лжи, пропаганды и мнений; водворение безмолвия, в котором могла бы прорастать и вызревать истина; вот то, что надо делать для людей.
— Личность и священное by Simone Weil, Петр Епифанов (Page 61 - 62)
Osmanthus Cordial reviewed Личность и священное by Simone Weil
Очень красивая вещь!
4 stars
— начиная концепцией безличного как сакрального и заканчивая ордалией логосом. Однако, я с бо́льшим пониманием отнесусь к тому, как Вейль встраивает в композицию суды и полицию (текст оторван от институциональных логик, но всё же предназначается институции), а вот то, как её поглощает наблюдение (и поиски) гениальности, выглядит как отступление — на фоне её же выводов о справедливом.
Osmanthus Cordial started reading How to Read the Bible by James L. Kugel
Читайте Святых Отцов
3 stars
Самая интересная сторона книги — выдумывать себе, на какую аудиторию она была задумана и собрана. Её, конечно, нельзя было не собрать с учётом, что все составляющие её тексты вплоть до Сотницы уже блуждали в миру, часто с минимумом редактуры (Шалларю нужен редактор). Сам Шалларь тут — просто невозможных степеней марксист по двум признакам: как он всех и вся вокруг помечает марксистами и как он заканчивает книгу — что тот мурал, разве только не успев сказать wreak havoc on the middle class.
Современная философия и культура любит жуткое / не-человеческое. Но вот вопрос: почему все образы жуткого / не-человеческого (почти) всегда — демоничны, отвратительны и так далее? Насколько они действительно «не-человечны», коль скоро эксплуатируют чисто человеческие эмоции отвращения / страха и тому подобного? Фишер в книге «Призраки моей жизни», основанной в том числе на дерридианской хонтологии и неоднократно затрагивающей ангелологическую тематику, отвечает, что все это есть некая идеология: «В постмодернистской культуре подавляется не темная, а светлая сторона. С демонами нам гораздо комфортнее, чем с ангелами. Все демоническое кажется крутым и сексуальным, ангельское же — сентиментальным и стыдным». Следовательно, подлинно радикальным, подрывным был бы ангелологический, а не демонологический ход. Ад, демонизм, боль, страх, отвратительное, мертвое, слизь — все это неким образом идеологические фигуры позднейшего капитализма; и либертариям, следовательно, надо противопоставить всему этому иной образ не-человеческого: ангелов, радость неземную, свет. То, что это кажется нам смешным, нелепым, непристойным, — это-то и говорит о том, что мы нашли, таким образом, слабое место идеологии; и в него-то и надо нам бить.
— Ангелы и способы производства by Владимир Шалларь (Page 130)
Агамбен в «Открытом» исследует «антропологическую машину» модерна, функционирование которой заключается в различании человека и животного: животное становится Другим человека. Как показывает агамбеновское исследование ряда эсхатологических текстов, дезактивация этой машины, стирание различия между животным и человеком есть один из эффектов пришествия Царства Божьего. Однако Средневековье сконструировало совсем иную антропологическую машину, действие которой состоит в различании человека и ангела (см. «Философские главы» Дамаскина): Другим человека становится ангел. При этом одним из эффектов пришествия Царства Божьего становится стирание различия между ангелом и человеком: «В воскресении пребывают, как Ангелы Божии» (Мф. 22:30). Это совсем иная перспектива.
— Ангелы и способы производства by Владимир Шалларь (Page 119)
Osmanthus Cordial reviewed Зимняя дорога by Leonid Yuzefovich
Авторские допущения и жменька пассионарности
2 stars
Юзефович никогда не даёт забыть, что это в первую очередь роман: даже мемуарной основы не хватит, чтобы предполагать то, что он предполагает о чувствах и намерениях героев. Чмошная цитата Метерлинка в конце — логичный вывод из авторской позиции последних четырёх-пяти глав.
Некоторые руководители колхозов пустились на хитрость из-за разницы между ценой сельхозпродукции, по какой покупало ее государство, и ее себестоимостью. Ведь эта себестоимость была высока, а государство платило колхозам копейки. Килограмм сливочного масла в магазине стоил 3 рубля 50 копеек. А сколько нужно было потратить денег, чтобы его произвести?! Председатель колхоза «Путь Ильича» в хуторе Долотинка Красносулинского района Ростовской области нашел такой выход: скупал в магазинах сливочное масло и сдавал его государству по обязательным поставкам вместо молока. За успешное выполнение планов по реализации государственных заказов председателю колхоза «Путь Ильича» даже было присвоено звание Героя Социалистического труда. Но недолго председатель побыл Героем, такая деятельность в конечном итоге наносила вред государству. Пока был подходящий момент, монтеры Гуковского подрайона предложили председателю-герою свои услуги. У нас после монтажа нескольких линий электропередач скопилось порядочное количество провода марки АС-120. Колхозу этот провод очень пригодился бы для электрификации хутора и животноводческих ферм. В качестве оплаты мы получили подсолнечные семечки не по рыночной, а по государственной цене. 51 кг на брата. Уехали довольные, что облапошили этого «героя». Когда же отправились на маслобойню маслица сбить, то получилось, как на базаре: кто кого обманет. Семечки оказались прелыми. Долго товарищи с ними мыкались, пока с горем пополам не сдали их за магарыч какой-то маслобойне. Но мне в этом случае крупно повезло. Не хватило мне старых семечек, и председатель распорядился отпустить семян подсолнечника нового урожая. Вот так, из-за разногласий между правительством и колхозным руководством страдал простой народ — рабочие и крестьяне. У мусульман по этому поводу есть пословица: «Аллах наказывает муллу, мулла наказывает феллаха, феллах наказывает ишака, а ишаку некого наказывать, и он тащит поклажу, которую на него нагрузили».
— Донбасс Восточный by Иван Нефедович Тишутин (Бочаров) (Page 35 - 36)
«Госкапитализм и теневая экономика под вывеской „Социализма“» на каждый день
Osmanthus Cordial reviewed Очерки преступного мира by Varlam Chalamov
Osmanthus Cordial reviewed Equal Rites by Terry Pratchett
A fine book about ecology
4 stars
I think it’s on the opposite side of the spectrum from Clarke’s “Piranesi” — and I like Pratchett’s viewpoint more: Clarke’s magic is desired and unreachable for those who seek it, so it’s a character of its own; Pratchett’s Esk postulates that not using magic when it’s there in your hands can be more important than using it, and that’s goes further than just admitting of its agency, it adds a very important nuance: whose agency is more of the liability to the living.
More literally Pratchett’s ecology is delivered in passages about Borrowing and things’ names and minds (Granny’s goats, and rocks of the University), but magic is the ultimate example of goals and means being one thing.
Good at actualizing modalities of its region, but laden with male gaze
Most interesting takes on national literature always come from outsiders—like Kulbak’s “Raysn,” both silly and convincing, or Gogol’s “Mirgorod.”
Rafeyenko also has that complex background which lets him synthesise different worlds. Not he’s only a writer with seven Russian-language novels, but also a literary critic. In 2014 he was displaced from Donetsk to Kyiv (I have little understanding what chunk of life he had lost then, and it’s a bad habit to draw conclusions from person’s literary alter egos). A year ago, I’ve read his second-to-last book, “Length of Days,” about the presence of the war in Donetsk and Kyiv, about “national unity” that struggles to be born.
It’s pretty common to see national myths using women as substitute for Homeland, giving them roles to play in the national order: of a mother, of a lover, so one may seek her valorously, or loose her tragically. Rafeyenko too uses such …
Most interesting takes on national literature always come from outsiders—like Kulbak’s “Raysn,” both silly and convincing, or Gogol’s “Mirgorod.”
Rafeyenko also has that complex background which lets him synthesise different worlds. Not he’s only a writer with seven Russian-language novels, but also a literary critic. In 2014 he was displaced from Donetsk to Kyiv (I have little understanding what chunk of life he had lost then, and it’s a bad habit to draw conclusions from person’s literary alter egos). A year ago, I’ve read his second-to-last book, “Length of Days,” about the presence of the war in Donetsk and Kyiv, about “national unity” that struggles to be born.
It’s pretty common to see national myths using women as substitute for Homeland, giving them roles to play in the national order: of a mother, of a lover, so one may seek her valorously, or loose her tragically. Rafeyenko too uses such a trope, putting the name of his Lady Vitchyzna in the title, of one who was misinterpreted to be real.
Rafeyenko’s protagonist, Haba admits his relationship with women is complicated—he lost his love on the account of Russian invasion to the City of Z (Donetsk’s doppelgänger) with both his home and his language. As a displaced person in Kyiv, he tries to be an ideal Ukrainian, so he craves new normality—and he eventually finds it in a family, with his woman (the one that in reality never abandoned him) and his ancestors as his children. Along the way he renounces his role as a consumer in a complexity of Kyiv’s life, written in a form of a shopping mall, then of a cinema.
The field of opportunities which Rafeyenko depicts his characters in is sad and claustrophobic, yet the language he uses is spectacular. I’ve read it in Ukrainian and cannot imagine how much even a skilled translator can discard and adapt and how many footnotes they should provide for the reader to understand all Rafeyenko’s puns, his slips into Russian and regional lore. Though it was translated into English last year, so give it a try.
Osmanthus Cordial reviewed Черный ветер, белый снег by Charles Clover
I wasn’t as angry as I was exhausted by all this.
1 star
Charles Clover’s Black Wind, White Snow is of course a good example how liberals are in owe of fascisms, but hey, it’s also poor researched!
Clover says he interviewed a lot of Nazbols, it seems like they instilled their ideas of Russian history in him (deterministic and stripped of reasoning). It overlaps with him trying to fit rich Amerikkan political lore over Russia, regardless of the era: “deep state”, “culture wars”, and “orthodox Marxism” (meaning some unified Soviet ideology) are regularly mentioned.
Book promises to explain phenomenon of “Russkiy mir” through the stories of political activism of Russian émigrés, Liev Gumilyov (one “spontaneous anarchist”!), and Alexandr Dugin. They all happen to be vewy cuwious chawactews, vewy talented, but twoubled intewectchuals, who fall for bigotwy and antisemitism by mewe accident. Also, they are all like Dostoyevsky in one way or another (it’s hard to portray Nikita Tikhonov as Dostoevsky, but Clover …
Charles Clover’s Black Wind, White Snow is of course a good example how liberals are in owe of fascisms, but hey, it’s also poor researched!
Clover says he interviewed a lot of Nazbols, it seems like they instilled their ideas of Russian history in him (deterministic and stripped of reasoning). It overlaps with him trying to fit rich Amerikkan political lore over Russia, regardless of the era: “deep state”, “culture wars”, and “orthodox Marxism” (meaning some unified Soviet ideology) are regularly mentioned.
Book promises to explain phenomenon of “Russkiy mir” through the stories of political activism of Russian émigrés, Liev Gumilyov (one “spontaneous anarchist”!), and Alexandr Dugin. They all happen to be vewy cuwious chawactews, vewy talented, but twoubled intewectchuals, who fall for bigotwy and antisemitism by mewe accident. Also, they are all like Dostoyevsky in one way or another (it’s hard to portray Nikita Tikhonov as Dostoevsky, but Clover solves the situation by saying he’s like Raskolnikov!)